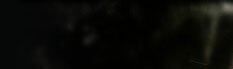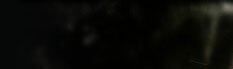|
Святая блаженная Ксения Петербургская — одна из самых почитаемых и любимых русских святых. Канонизирована она была только в 1988 году, с началом настоящей перестройки, когда вообще сбывались почти все народные чаяния: обретали легальность народные любимцы, канонизировались народные святые… Но блаженную Ксению почитали и до канонизации. Три покровителя были у многострадальной второй столицы — Александр Невский, Иоанн Кронштадтский и она. Александр Невский покровительствовал государственным мужам и православному воинству, Иоанн Кронштадтский — духовным лицам и консерваторам. А Ксения Петербургская, прожившая всю жизнь на Петербургской стороне и на ней совершившая свой беспрецедентный сорокапятилетний подвиг, печется о бедноте, о мещанстве, о среднем и ниже среднего классах, о тех, для кого она была единственным воплощением живой веры. Она заступница нищих, надежда чиновничества, утешение вдов и сирот, покровительница кротких семей, душа окраинного Петербурга; к ней сбегались со всего города студентки, влюбленные, школьницы, страшащиеся экзаменов; к ней прибегали, молясь за больных детей, призывников, мужей…
“Скорая помощница” — звали ее в Питере. И действительно, молящийся Ксении не успевал и домой прийти, как в жизни его наступал счастливый поворот.
Никто не знает ни даты ее рождения (приблизительно относимого к 1719 — 1730 годам), ни даты смерти (случившейся в самом начале XIX века). Известно только имя и отчество: Ксения Георгиевна. Она была женой полковника Андрея Федоровича Петрова, певчего при дворе Елизаветы Петровны; когда Ксении было 26 лет от роду, Андрея Федоровича настигла внезапная смерть без покаяния. Событие это настолько потрясло Ксению, что она тут же отказалась от собственной личности, всем знакомым говорила, что умерла раба Божия Ксения, а Андрей Федорович, напротив, жив и здоров… Тут же она оделась в одежду мужа (и проходила в ней еще несколько лет, а когда она истлела, никогда не надевала ничего, кроме красной юбки и зеленой кофты: цвета формы Преображенского полка). Дом свой Ксения Георгиевна, двадцатишестилетняя вдова, весь полностью отдала стоявшей у нее на квартире Параскеве Антоновой (о ней речь впереди), а все имущество раздала нищим. С тех пор откликалась она только на имя “Андрей Федорович”: так окликали ее все торговки Петербургской стороны, знавшие, что, если блаженная Ксения у кого отведает пирожка или яблочка, у того весь день торговля будет удачна.
Когда она раздала все имущество — свое и покойного мужа, — родные потребовали ее медицинского освидетельствования, но на все вопросы она отвечала разумно и ясно, и в последующем ее поведении не было никаких особенных странностей, кроме уже упомянутого требования называть ее Андреем Федоровичем, только Андреем Федоровичем…
Главное же отличие Ксении в том, что основным ее занятием, помимо непрестанной молитвы, было устройство чужого семейного счастья.
Говорили, что и сама она в браке была очень счастлива, пока в двадцать шесть лет не овдовела. Ксения Петербургская непрестанно занималась тем, что обустраивала личную жизнь обитателей Петербургской стороны, и сегодня к ней чаще всего прибегают именно за помощью в делах семейных. Сохранилось множество преданий о ее помощи — самое интересное выглядит так.
Та самая Параскева Антонова, которой Ксения отписала весь свой дом, принимала ее часто и с особенным радушием, тут все понятно. Однажды Ксения, забредя в гости, сказала ей сурово: “Сидишь тут чулки штопаешь, а того не знаешь… (обычная, кстати, у нее формула: сидишь тут пироги печешь, а того не знаешь…). Тебе Господь сына послал, беги скорей на Смоленское кладбище!” При всей странности слов блаженной Антонова привыкла ее слушаться и побежала на Смоленское: там извозчик сбил беременную женщину, которая тут же умерла в преждевременных родах. Ребенок, однако, был жив, и Антонова, пожалев мальчика, взяла его к себе. Его удалось выходить, но никаких сведений ни об отце, ни об имени и местожительстве матери получить не удалось. Мальчик так и вырос в бывшем доме Ксении, достиг больших чинов, оказался идеальным сыном…
В другой раз Ксения сказала молодой девушке, в семье которой тоже любила бывать: “Сидишь тут, а на Охте твой муж жену хоронит!” В этом апокрифе все еще трогательнее: девушка, конечно, тут же побежала на Охту, увидела там молодого вдовца, лишившегося чувств на могиле жены, принялась за ним ухаживать и вскоре сделалась ему благочестивою супругою. Историй таких о Ксении рассказывают множество, и все они достоверны именно потому, что действуют в них какие-то бесконечно узнаваемые, удивительно петербургские персонажи: пожилые полковники, которых Ксения исцелила по их молитве; молочницы, няньки, которые вот не поверили докторам и побежали к Ксении за советом, — и от прикосновения блаженной или от земли с ее могилы дитя исцелилось… Земля эта пользовалась таким спросом, что насыпь над могилой Ксении разнесли за одну ночь; насыпали новую — и новую разнесли, так и растаскивали, пока не построили часовню…
Но рассказ о Ксении (в обывательских пересказах слишком часто сводящийся к описанию ее помощи в делах семейственных, учебных и служебных) был бы убог и неполон без того, что составляло главное содержание ее жизни: она никогда не молилась на людях и только ночью, выйдя за город, в поля (поклонницы подсмотрели), неустанно клала поклоны, молясь до самого утра.
Особенно трогательно предание, с помощью которого, кстати, можно установить хоть какие-то даты ее жизни: она была еще жива в 1796 году, когда на Смоленском строилась новая каменная церковь, церковь Смоленской Божьей Матери. На леса этой церкви Ксения по ночам втаскивала кирпичи, чтобы рабочие, придя утром, могли сразу заниматься кладкой. Рабочие-то, оставшись на ночь на строительстве, ее и выследили — им очень интересно было, кто незримо помогает возводить храм.
|